|
«Мария Астафьева- Корякина. Портрет жены писателя»: виртуальная лекция-воспоминание, к 100- летию со дня рождения. Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст… В. П. Астафьев Мария Семеновна Астафьева-Корякина родилась 22 августа 1920 года в городе Чусовом Пермской области (ныне Пермский край) в большой многодетной семье. Отец Семен Агафонович Корякин работал стрелочником на железной дороге, впоследствии - составителем поездов. Мать, Пелагия Андреевна, растила детей – их было девять человек, вела дом и хозяйство.  В 1933 году Мария Корякина поступила в Лысьвенский механико-металлургический техникум на химическое отделение. После третьего курса, оставив учебу, начала работать в химической лаборатории Чусовского металлургического завода, чтобы помогать семье. Техникум окончила позже заочно. В начале Великой Отечественной войны Мария Семеновна окончила курсы медсестер и весной 1943 года добровольно ушла на фронт. В годы войны состоялось ее знакомство с мужем, будущим великим писателем, а тогда солдатом нестроевой части Виктором Астафьевым. Фотографии в юности (слева) и с мужем и детьми (справа)   В конце 1945 года, демобилизовавшись, супруги вернулись в город Чусовой. Мария Семеновна занималась плановой работой в местной промышленности, потом была радиожурналистом. В 1966 году супруги переехали в Пермь, где Астафьева-Корякина начала пробовать свои силы в литературе. Ее первый рассказ "Трудное счастье" был опубликован 10 октября 1965 года в пермской газете "Звезда". Затем вышла в свет повесть "Ночное дежурство", которая позже получила название "Отец" (1968). Литературные успехи Мария Семеновна оценивала скромно, считая, что без ее книг литература вполне обойдется. А взялась она за перо, по ее признанию, чтобы хоть отчасти соответствовать своему мужу. При рождении первой книги для Марии Семеновны самой желанной была похвала Виктора Петровича. В 1969-1981 годы супруги жили в Вологде, где Мария Семеновна продолжала заниматься литературной деятельностью. В это время вышли в свет книги "Анфиса" (1974), "Сколько лет, сколько зим" (1981). Её произведения публиковались в журналах "Смена", "Москва", "Советская женщина". С 1981 года Мария Семеновна жила в Красноярске. В 1978 году Мария Астафьева-Корякина была принята в Союз писателей СССР.  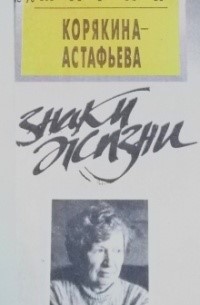 На ее счету шестнадцать книг: "Пешком с войны" (1982), "Шум далеких поездов" (1984), "Липа вековая" (1987), "Надежда горькая, как дым" (1989), "Знаки жизни" (1994), "Земная память и печаль" (1996) и др. Мария Корякина написала в 1994 году автобиографическую повесть «Знаки жизни», которую Астафьев просил не публиковать, но она не послушалась и в 1998 году Астафьев написал о тех же самых событиях повесть «Весёлый солдат».  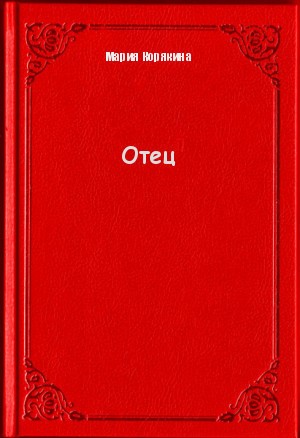 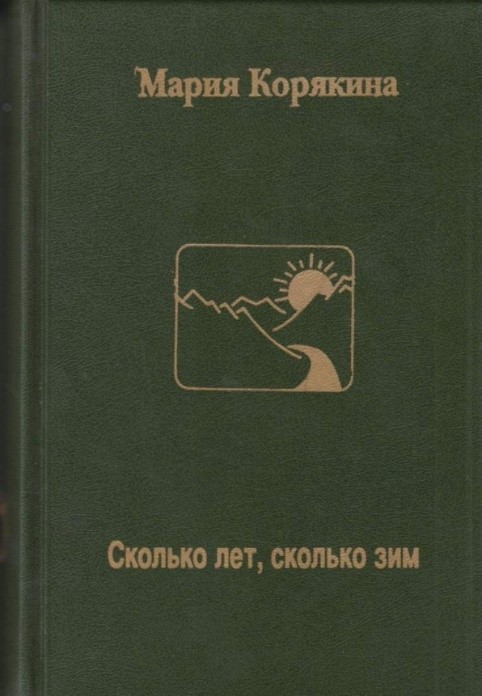  Книги писательницы – это воспоминания о горестях и радостях жизни и светлых минутах, выпавших на ее долю, на долю ее родных и близких. Много житейских невзгод, потерь пришлось испытать семье Астафьевых. Первая дочь – Лидия, умерла от голода еще младенцем. Вторая – Ирина, ушла молодой, оставив на руках родителей двоих ребятишек. Была она ярким образцом гостеприимной хозяйки. Людям, побывавшим в Овсянке в доме Астафьевых, надолго запоминается атмосфера этого дома, в котором сохранены лучшие традиции сибирского народного быта, широкого и хлебосольного, простого и приветливого.  Долгие годы Мария Семеновна была главным помощником своего мужа - писателя Виктора Астафьева: выполняла работу его домашнего секретаря, по нескольку раз перепечатывала рукописи, вела переписку с многочисленными корреспондентами, с издательствами и редакциями. Мария Семеновна была первым читателем и критиком произведений мужа, занималась сохранением наследия Виктора Астафьева. Между ними, прожившими вместе почти 57 лет, бывали размолвки очень серьезные. И даже расставания. Однако Виктор Петрович возвращался к Марии, ибо только в ней, единственной, он обретал полноту понимания и заботы, имел ту опору, защиту, надежный тыл. Мария Семеновна продолжила тот удивительный ряд сильных духом и щедрых душой великих русских женщин, который как бы запечатлен на страницах исторической летописи нашего Отечества. 16 ноября 2011 года Мария Семеновна Астафьева-Корякина скончалась в Железнодорожной больнице Красноярска. До последнего своего дня она оставалась в доме хозяйкой, доброй и заботливой бабушкой своим внукам и правнукам, хранительницей астафьевской традиции правды и открытой души. 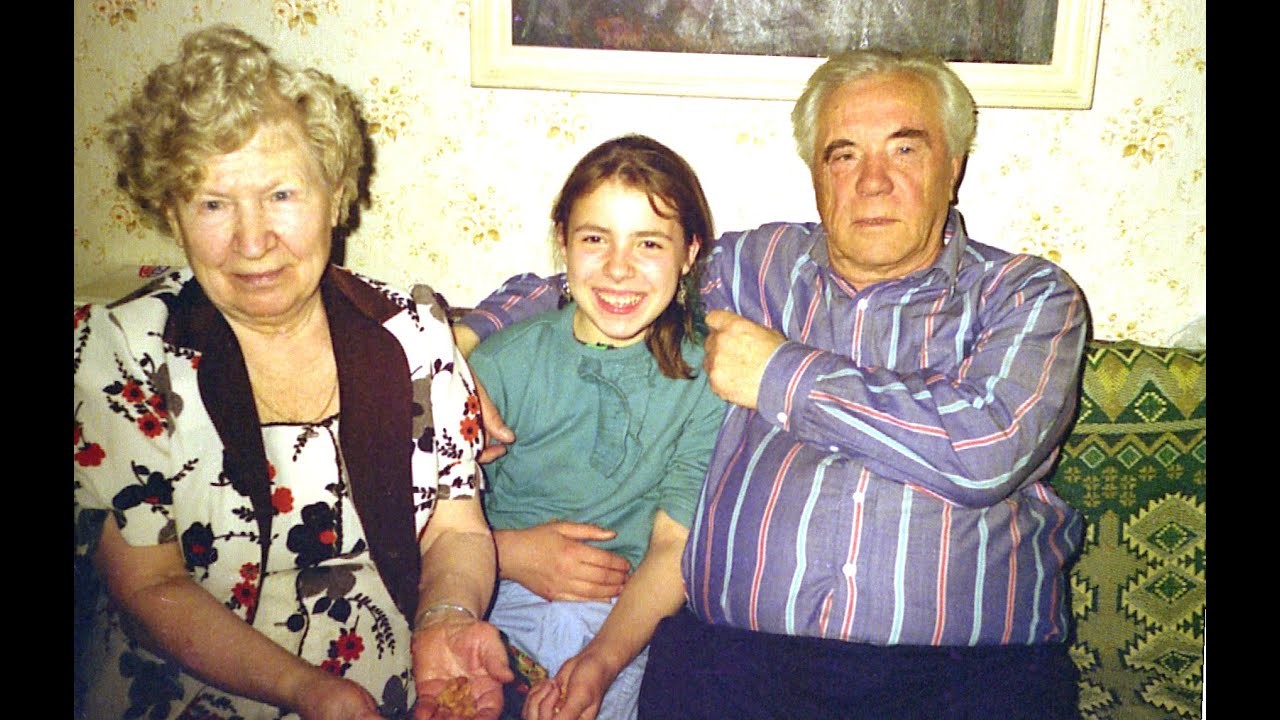  Мария Корякина была главным помощником писателя Виктора Астафьева. Виктор Астафьев несколько раз уходил из семьи, но всегда возвращался. Они прожили вместе 56 лет, до самой смерти Астафьева в 2001 году. После его смерти Мария Корякина занималась сохранением наследия писателя. В браке с Виктором Астафьевым у Марии Семеновны родилось трое детей. Первая дочь Лидия (1947) умерла младенцем. Вторая дочь Ирина (1948—1987) скоропостижно скончалась в Вологде, похоронена на кладбище в Овсянке. Виктор Петрович и Мария Семеновна забрали к себе маленьких внуков Витю и Полю. Сын Андрей (1950) живёт в Вологде. В. Астафьев Руки жены (фрагмент рассказа) Верному другу и спутнику — Мане Он шагал впереди меня по косогору, и осклизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему косогору сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи голоски ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в коренья мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно настороже. Петь улетали в другое место, выше, на гору, откуда птицам раньше было видно всходившее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал. Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на чистине. На спине его под вылинялой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран в комок, ноги ставил твердо, сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах. Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это, чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше. Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по-змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался, думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге. Один раз он обернулся, спросил участливо: — Уморились? — и, не дожидаясь ответа, предложил: — Тогда давайте посидим. Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в косогоре и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убегал в густую траву. В ней он отыскивал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный, добела промытый песок. И чуть шевелился и вместе с песком плавал то вниз головой, то кверху брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным стихийным морем, и он уже смирился с участью и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь. — Охмелел, — улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него, посидел, посидел и рванул в траву, видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что, когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные, непустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд. Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, а на груди, возле самого подбородка висел патронташ. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к литовищу вместо ручки, а другую культю он просовывал в сыромятную петлю. Это он изобретал около двух лет. Топорище приспособил быстрее — всего за полгода. Длинное топорище, с упором и плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял култышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишке смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез двумя лапами к его жене — Наде, Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Феклину, свояку, больше не приезжает. Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда девятнадцать лет. Нынче нет шахты в поселке — выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов: лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова — бывшего шахтера. Обо всем этом я уже расспросил Степана, и все-таки оставалось еще что-то, оставалось такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привезти очерк о безруком герое, лучшем охотнике «Райзаготпушнины». — Поздно вы приехали, — с добрым сочувствием проговорила Надежда. — Вёснусь надо было. Степа тогда пушнины на три годовые нормы сдал. А сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается. — У человека наказ, — строго сказал Степан, — есть ли, нет ли у нас процент — это начальства мало касается. Отдай работу и все. Обскажите, что и как. Может, он сообразит, — и, помедлив, тоже посочувствовал: — И попало же вам заданье! Ну что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей, может, там чего подходящее сыщется... Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжко и долго переживала мать грянувшее горе. Степан у нее был единственным сыном, а «сам» без вести пропал в «нонешнюю» войну. И все-таки, все-таки... — Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю? — прервал мои размышления Степан. — Да. Собственно, нет, — смешался я, — просто хотелось пройтись по уральской тайге, посмотреть... — Посмотреть? — сощурился Степан. Он наклонил голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся петушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне: — Сейчас прилетит! Тут их пропасть, рябков-то... Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь с задиристым видом, дескать, которые тут подраться звали. Степан сшиб его с куста, неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон, подобрал птицу и, ничего не сказав, пошел дальше. Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил: — Вот, смотрите, раз хотели... Я смотрел. Передо мной, насколько хватало взгляда, были горы и леса, дремные горы, тихие леса в осенней задумчивости. Паутина просек, дорог и высоковольтных трасс изморщинила лицо тайги с нездоровым и оттого ярким румянцем. Горечь надвигающегося увядания угадывалась во всем. Речки кружились, затягивали в желтые петли горы с суземным лесом, и казалось, что в расщелинах, логах и распадках обнажились нервы земли. Все кругом было величаво, спокойно. Предчувствие долгого сна таилось в лесах, и шорох облетающих листьев уже начинал усыплять его, нашептывая об осенних дождях, о глубоких снегах и о весне, которую надо долго и терпеливо ждать, потому что все живое на земле и леса тоже живут вечным ожиданием весны и радости. Очарованные печальной музыкой осени, обнажались леса, роняя листья в светлые ручьи, застилали зеркала их, чтобы не видеть там отражения своей неприютной наготы. Земля надевала шубу из листьев, готовилась к зиме, утихали звуки на ней, и только шорох был всюду от листа, и шум от речек, заполневших от больших рос, инеев и часто перепадающих, но пока незатяжных дождей. Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно от всего леса. Она была обрублена лет десять назад, и пней на горе было много, гнилых, с заплесневелыми срезами и сопревшими опятами по бокам. Вокруг пней густо взошел липняк, рябинник, березки. Они уже заглушили всходы малинника и кипрея, заняли полянки покосов, соединились меж собой и как-то играючи, без грусти сорили вокруг листьями, желтыми, бордовыми, рыжими, а тонкие рябинки были с первым урожаем, с первыми двумя-тремя пригоршнями ягод и показывали их всем хвастливо, доверчиво. На рябинник этот валились дрозды, и кричали громко, деловито, склевывая крупные ягоды, и перепархивали клубящимися стаями с деревца на деревце, и оставались после них рябинки без ягод. Вид у них был растерзанный. Тогда в них начинали тонко, успокаивающе наговаривать синицы, затем, мол, и родились вы, рябинки, чтоб кормить птиц ягодами. — Так что же вы решили? — неожиданно задал мне вопрос Степан. Я пожал плечами, проводил взглядом заполошно взметнувшуюся стаю дроздов. — Не знаю. — И тут же признался: — Мне будет трудно писать о вас. Наверно, ничего не выйдет. — Конечно, не выйдет, — уверил меня Степан, тоже провожая глазами птиц. — Что обо мне писать-то? Что я — калека и не пошел милостыню просить, а сам себе хлеб зарабатываю? Так это мамкина натура — мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились. — Он немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко: — Вы не обидитесь, если я вас маленько покритикую? Как говорится, критика — направляющий руль, да? — Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста, на «ты». — Ты так ты, это даже удобней. Так вот. Четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь — что к чему. И все возле меня да возле меня. А что я? — Он тут же посмотрел на себя, на сапоги, на патронташ, на ружье и только на култышки не посмотрел. — Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее — вот что, брат, главное. И всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки! Да что там толковать! Говорю — главное. — Он доверительно придвинулся ко мне. — А как ты об них напишешь? Ну, как? Если же не напишешь о главном, значит, нечего и бумагу портить. Так? Я вот про себя скажу. Вот я ее люблю. Другой раз думаю: выпью и скажу ей про это. И все равно ничего не выходит. Вот кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее. Или как вот в песнях поют. А так едва ли получится. — Он на минуту задумался, лицо его сделалось добрым и простоватым. — Да-а, хитрое это дело — высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие, линялые. Ну да шут с ними, иной раз и без слов все понятно. Знаешь, что? — Он опять поглядел на меня, ровно бы взвесил глазами. — Ладно, пойдем. Покажу я тебе кое-что, и не ради чего там, а как мужик мужику...» |

